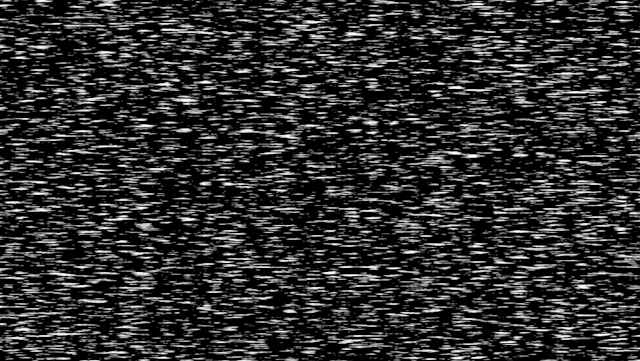Начало пути. Письма к родителям (1907—1920) «Дорогие папа и мама! Страшно Шуре благодарен за присылку Русской Мысли — открытка моя была некстати поспешна. Читал ли ты, папа, эту заметку Брюсова обо мне? Если нет и если видел ее только Шура и на словах пересказал вам ее содержание, то напишите мне об этом и я пошлю вам вырезку. Я этой рецензией не доволен, мне не нравится ее тон. Если в ней переставить фразу — все меняется. К чему, с первых же слов, такой обидный вывод, которым как бы отстраняется то несуществующее притязание на лавры, которое где-то померещилось ему. “Самобытнее всех их — Б. Пастернак; из этого однако не следует, что стихи его хороши или безусловно лучше его товарищей.” Если у вас нет этой книги под руками — то не стоит входить в разбор ее подробностей. Скажу вам правду, — столбец этот даже расстроил меня, исключительно за вас, — вы прочтете этот отзыв, не останавливаясь на тексте его, и у вас останется впечатление порицания или осуждения посредственности — а между тем, — в нем много — или скажу прямо — все справедливо. Неловкость формы? — Как хорошо, что Бр не знает, что первая моя книжка не только первый печатный шаг, но и первый шаг вообще. Остальные начинали детьми; так, как начинал я в музыке; остальные знают классиков, потому что именно из увлеченных читателей и почитателей стали они писателями. Меня же привело к этому то свойство мое, которое, — как это ни странно — ни от кого не ускользает, и которое Брюсов называет самобытностью, фантазией, воображением, своеобразным складом души и т.д. Мне кажется, художественное дарование заключается вот в чем: надо роковым, инстинктивным и непроизвольным образом видеть так, как все прочие думают, и наоборот думать так, как все прочие видят. Это значит вот что: поле зрения не должно быть каким-то неизбежно навязанным сырьем, в котором глаз не повинен и не ответствен за него, — формы должны следовать из особого свойства каждого художнического внимания, как следуют выводы из мыслей остальных людей. И напротив — все ощущения отвлеченных вещей, вроде сознания времени, прошлого, сознание пространственных схем и т.д. — вообще все мысли художника должны лежать в нем в виде необработанно диковинной залежи, тяжелой, темной, телесной и осязательной. Если довести это до парадокса, можно сказать, что художник окружен снаружи своею мыслью и тем, что называют вообще душой, и что он носит в себе все то, что называется окружающим миром, все то, от чего люди загорают и простужаются, чем они дышат и что они возделывают. И если бы художник решился на самоубийство, скажи, разве это не парадокс, если бы я сказал, что он должен затонуть сам в себе? Оригинальность — это вовсе не свойство художника. Оригинальность — это особенность самого искусства, которого нельзя определить именно потому, что в этом его определение: в том, что, пока ты назвал его, оно уже стало другим на свете — но оно осталось искусством, то есть способным и в этот момент ускользнуть от сходства с самим собой. Искусство я представляю себе в виде какого-то векового вдохновения, которое мчится на одном коньке, скользя по душевным затонам отдельных избранных и оставляя свой след на них, след одномерной, делимой только в одном направлении — в направлении историческом — и не делимой никак иначе математической линии. Абсолютная оригинальность художника, его индивидуальность — это ведь сама неделимость того следа, который оставляет искусство, — если он отчерчен искусством, художник неделим, — как линия прохождения искусства — не иначе. Я не знаю, понятно ли это… Теперь о себе. Как я боялся всегда того, что те нелепости, которыми изобилует все, что я делал, — в музыке, в философии, в литературе — слишком похожи на неискреннее ломание тех, которые избавлены от этой вынужденно угловатой искренности — потому что только эта нелепость и угловатость и есть то, что ввергает меня бесповоротно в искусство и следовательно я не могу и не хочу ее уничтожать или замалчивать, а то все эти труды мои станут чем-угодно, перестав быть искусством. Пожалуй даже не опасения за слух, но именно боязнь показаться намеренно кривляющимся заставила меня бросить музыку. Потому что таким обвинением не только был бы задет жизненный сердцевинный нерв всех моих начинаний, но оказалось бы нечто худшее: что основная тема, мелодия и содержание заглушены несущественным и не доходят до слуха. Разве искренность всего только одна правдивость художника? Разве художественная искренность величина моральная как бы совесть или добропорядочность произведения? Разве искренность не дно художественного излияния, со всеми его чудесами и событиями, со всеми приметами его глубины. Тогда искренность — окраска и ткань произведения — и это дно должно быть видимо, не то произведение станет однообразною плоскостью — и тогда это его смерть. Вот все чего я хотел. Чтобы моя искренность была замечена как художественная самобытность, а не как добронравие симпатичного Бори, с малых лет знакомого доктору Левину или основательно изученного Юлием Дмитриевичем . Что до него, вы знаете, как я его люблю — но это к делу не относится. И как мне не радоваться тому, что эта-то особенность, которая понуждала меня ко всем моим ставкам, — отмечается всеми искушенными и сведущими — как основное художественное волокно моих вещей. Подлинность, оригинальность, самобытность — вот что лелеял я и за что опасался, вот чем я болел, — и это бросается в глаза, а раз это так, то значит не как нравственное качество, а как интенсивность окраски доходит она до восприятия. — Простите, дорогие мои папа и мама, надоел я вам верно изрядно-таки, и вас, пожалуй огорчит то, что это письмо мое не так ясно, как предыдущее, которое удовлетворило всех. Всех целую Ваш Боря» Выставочный проект «Пастернаки: родители и дети» разделен на пять частей, каждая из которых — это отдельный сюжет об истории этой талантливой семьи. Первая часть проекта под названием «Рождение семьи» посвящена родителям семейства — Розалии и Леониду Пастернакам — их знакомству, женитьбе и рождению детей. До встречи в Переделкине! #Pasternak_month_fest