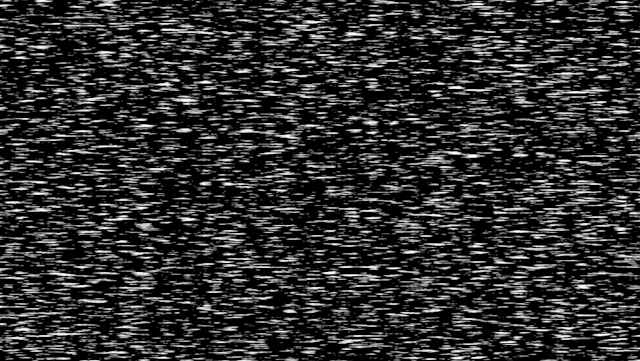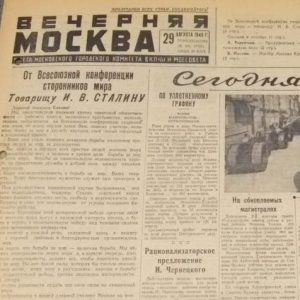9 мин. на чтение Москвичам уже пора планировать свои поездки в Петербург — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал Ксении Басилашвили о том, какие маршруты выбирает в Москве, о близких по духу городах и музеях и о выставках в Эрмитаже в 2025 году. Москва для вас не чужая. Здесь родилась ваша супруга Ирина Леонидовна, с Москвой вы, прежде всего как директор Эрмитажа, связаны деловыми поездками. Наверняка за эти годы сложились свои маршруты. Должен отметить, что не считаю нужным противопоставлять эти два города. Я исхожу из того, что Петербург — это Москва, но немного измененная. Такой аккумулятор, одного дня подключения к нему достаточно, чтобы работать на этой энергии месяц-полтора. В Москве много мест, где этой энергией подзаряжаются. Они у меня все симпатичные, но так получилось, что все деловые. Это здание Института востоковедения РАН на улице Рождественке. И дом в Армянском переулке, где исторически был Лазаревский институт восточных языков, теперь в этом здании расположено посольство Армении. Два здания Академии наук — дворец в Нескучном саду и советское здание президиума РАН на площади Гагарина. Бываю там часто и всегда чувствую себя уютно (Михаил Пиотровский — признанный в мире ученый-арабист, доктор наук, декан восточного факультета СПбГУ, академик РАН. — « ►»). Особое место для меня — Государственный исторический музей, пожалуй, самый любимый из московских. Он близок по духу. Это музей, созданный для исторического рассказа. Недаром именно в Историческом состоялись самые удачные наши выставки — «Драгоценности! Блеск русского двора» (до 12 мая 2025 года. — « ►») и уже прошедшая в 2021-м выставка «Придворный костюм середины XIX — начала XX века». В Москве особенный музейный мир. Московские музеи были рождены частной инициативой. Практически все музеи в Петербурге — императорские, возникли по воле государства. И в этом очень важная типологическая разница, но и взаимное дополнение. Многих москвичей раздражают бесконечные перемены в их городе — вечные стройки, новоделы на месте старых зданий, укладывание плитки каждый сезон. Как вы оцениваете «изменчивость» столицы? Все изменения, которые проходили на моих глазах, очень логичные. Впервые я застал Москву уже в 1960-е годы, социалистическую. Она и теперь меняется, следуя аргументам капитала или административных решений, а не логике города. Но для Москвы это нормально, она всегда такая. Вы почетный житель Петербурга и его настоящий патриот. Какой город мира на следующем месте после него для вас? Вена — второй Петербург. По своему духу, архитектуре. Вена пребывает на границе Восточной и Западной Европы, в ней соединение разных культур, их диалог. В этом и есть имперскость. Так же и в Петербурге, он русский и западный. Но одновременно западный и нерусский. Соответственно ваш любимый зарубежный музей… Музеи все разные, нет ни одного такого, как Эрмитаж. Но если составить подобный список, то самый имперский — это Венский музей истории искусств. Британский музей тоже родной, там очень сильная научная составляющая, ну а музей «Метрополитен» я ценю за его внутреннюю раскованность. Можно часто услышать, что Эрмитаж создает тон в выставочном деле. Из последнего в пример приводят выставку «Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», когда благодаря усилиям кураторов, архитекторов и дизайнеров зрители оказывались в необычном театрализованном пространстве, откуда не хотелось уходить. Я побывала на этой выставке несколько раз, однажды просто зашла пройтись, не отпускала атмосфера. Как вы определяете жанр таких выставок и будете ли продолжать работать в таком ключе? Эрмитаж и прежде, все последние 20 лет задает тон в музейном деле. В ситуации, когда живешь в блокаде, надо делать выставки, которые являются вызовом себе и другим, и музейному делу в мире. Снейдерс — выставка-вызов. В мире возвращается интерес к фламандскому искусству, тут важно вовремя подхватить. И мы сделали выставку фламандского натюрморта, показав себе и другим, что можем все рассказать сами, на своем материале — из собрания Эрмитажа, российских музеев и частных собраний. Получилось очень эффектно! При этом звучало замечание, что театрализованность отвлекает от картин, на них смотреть некогда. И это тоже правильно. И потому так контрастно воспринималась выставка тех же натюрмортов в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Их просто классически развесили, без всяких вспомогательных решений. Картины хорошо рассматривать, когда они висят на стене и ничего другого нет. Так и вышло в Музее изобразительных искусств. На самом деле с этим музеем у нас получаются такие сдвоенные выставки. Мы их и раньше делали, но отличий было немного, а сейчас иной подход. Со времен выставок о собирателях нового западного искусства мы создаем очень разные экспозиции, которые дополняют друг друга. Так, выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Москве была дополнена счетами, квитанциями, захватывающими историями приобретений, а петербургская «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» строилась с точки зрения эстетических подходов, внимательного рассматривания прежде всего самих картин. И вот теперь наоборот: у нас был Снейдерс театрализованный, а у них более академичный. Я исхожу из того, что Петербург — это Москва, но немного измененная. Блестящий образец — наши перекрестные выставки о французском энциклопедисте Дени Дидро. В Пушкинском музее рассказывали о том, как рождалась художественная критика. В Эрмитаже — о том, как Екатерина II повлияла на развитие искусства во Франции. У нас получилось с Пушкинским музеем найти правильные ключи для совместной работы. Сейчас это очень важно. У нас в Эрмитаже три выставочных направления: императорская, имперская история, диалог культур и рождение шедевров. Сменился акцент — если раньше мы привозили картины из западных музеев и строили выставки вокруг них, то теперь это шедевры из музеев России, а еще больше — свои. Мы их реставрируем и объемно показываем. В этом году из реставрации выйдут «Святой Себастьян» Тициана и «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Мы сделаем вокруг каждого шедевра выставки, о которых заговорят. Возвращаясь к межмузейному сотрудничеству. В Музее изобразительных искусств с 2023 года, после ухода Марины Лошак, уже второй директор. Назначенную в марте 2023 года Елизавету Лихачеву в январе сменила бывший руководитель РОСИЗО Ольга Галактионова. Не слишком ли частая смена руководителей? В России директора музеев работают по контракту, их могут уволить в любой момент, такова система. Есть определенный кадровый голод, о котором говорит Министерство культуры, мы, внутри музеев, тоже озабочены этой проблемой. И потому создали свой конкурс «Лидеры музейного мира». И уже есть тайный, а затем появится и открытый список резерва профессионалов, достойных управлять музеями. Что касается Пушкинского музея, Эрмитаж начал развивать подобную выставочную модель с Мариной Дэвовной Лошак, продолжил с Елизаветой Станиславовной Лихачевой, и я думаю, что это сохранится и при новом директоре. Хорошие примеры работают долго. У нас всего лишь 10% — туристические группы. В основном индивидуальные посетители. Я их называю «люди, которые побывали в Прадо». В России очень много горизонтальных музейных связей. Посмотрите, сколько прекрасных выставок открывается: Пермь, Екатеринбург, Казань, Хабаровск. Уже нет исключительно одной парадигмы Москва — Петербург. Есть единое музейное пространство России, и это очень ценно. Мы обсуждаем проблемы с Министерством культуры. Но самое главное — у нас есть свое мнение. Помню, как непривычно было попасть в Эрмитаж после первого снятия ограничений, связанных с пандемией. Полупустые залы, редкие туристы. Все это шокировало, я помнила многоязычные толпы, с которыми с трудом расходилась в коридорах дворца. Сейчас по понятным причинам иностранной речи по-прежнему немного, но к «Мадоннам» Леонардо уже не так просто подойти, очередь. Как изменилась ваша аудитория за последние несколько лет? Очень сильно изменилась. У нас нет толп туристов, которые идут с флажком. Туристические группы — это деньги, но они приходят для галочки. Причем китайские группы ничуть не хуже американских или немецких, итальянских или российских — все могут идти друг за другом, громко разговаривать и ничего не замечать. Сейчас к нам приходят в основном российские туристы, петербуржцы, приезжают посетители с Востока, с Запада меньше. Всего лишь 10% — туристические группы. В основном индивидуальные посетители. Я их называю «люди, которые побывали в Прадо». Они видели мир, много читали, у них открытые глаза. Они приходят в Эрмитаж осознанно. Ищут, что им нравится, а не куда их ткнут. К таким посетителям надо иначе обращаться, общей обзорной экскурсии уже недостаточно. Посетителей довольно много, количество начинает приближаться к допандемийному уровню, а это 3,5 миллиона в 2024 году. Готова ли эта публика к восприятию неклассических произведений, например концептуального искусства? В Главном штабе представлена выставка, а точнее, тотальная инсталляция «Илья и Эмилия Кабаковы. “Памятник исчезнувшей цивилизации”». Я листала книгу отзывов, там встречаются возмущенные отклики. Тут надо уйти в историю. В Петербурге современное искусство не любили всегда. В этом, кстати, еще одна разница между Москвой и Петербургом. Здесь вкусы более консервативные. Хотя и Екатерина II, и Александр III покупали современное им искусство. В 1919 году в Зимнем дворце прошла «Первая государственная свободная выставка произведений искусства», где участвовали все художественные направления. Картины Павла Филонова висели чуть ли не в Павильонном зале. А недовольные были и есть всегда. Причем две категории. Одни пишут, зачем мы выставляем иконы в музее, а не в церкви. Другие: зачем вы нам разводите религиозную пропаганду? Или какого черта у вас висят портреты императоров, они нам больше не нравятся. А других оскорбляет «нагота» статуй или фигура китайского Будды. Все есть, и мы всякого зрителя любим. И готовы объяснять, если нас готовы услышать. Мы энциклопедичны, и у нас есть все, на любые вкусы. Не нравится что-то — можно найти другое. Но, конечно, мы воспитываем у посетителей хороший вкус, в том числе и такими «непонятными» выставками. Все связано, и человек, который воспринимает и знает классическое искусство, будет адекватно воспринимать современное тоже. Серебряная рака Александра Невского в советское время была спасена сотрудниками Эрмитажа и выставлялась в Зимнем дворце. В 2023 году ее передали в Александро-Невскую Лавру. При этом формально комплекс гробницы святого остается частью музейного фонда, ведь рака передана церкви во временное пользование на 49 лет. Как обеспечивается контроль за ее состоянием, как выстроен этот механизм? Повторю о причинах, почему мы так сделали. Я многократно объяснял, что сейчас ситуация, когда для верующих людей, для тех, кто стоит в очередях к поясу Богородицы, сакральная роль искусства важнее его художественной ценности. Качели качаются — когда-то было наоборот, и музей выступал с других позиций. Сегодня мы работаем вместе и можем считать Александро-Невскую Лавру одним из спутников Эрмитажа. Это совместная работа, отношения всегда были хорошими, сейчас мы формируем новую силу. Каждое утро я получаю рапорт службы безопасности, и первая строка в нем о состоянии климата в Благовещенской церкви. Такой же отчет получает настоятель Александро-Невской Лавры. Внутри установлена аппаратура, наши датчики, специальная система кондиционирования. Бывают дни, когда падает влажность, но мы прилагаем много усилий, чтобы держать баланс. Есть опыт — в Зимнем дворце мы несколько лет создавали атмосферу, в которой произведения из серебра чувствуют себя хорошо. В будущем рака переедет в Троицкий собор Лавры, и мы уже установили там датчики, чтобы заранее выяснить, в какой ситуации она окажется там, и подготовиться. Рака в церкви, теперь можно приходить молиться, но появилась еще одна потребность. Сейчас мы активно обсуждаем, как увековечить память об Александре Невском в Петербурге. Тогда я говорю: «Так у нас же был мемориал в Эрмитаже», но это в прошлом, теперь он в Лавре, а в церковь пойдет не каждый. И стало ясно, что есть еще светский Александр Невский, о нем тоже важно думать, его тоже надо вспоминать. Эксперты в разных сферах предрекают, что 2025 год будет во многом решающим, ожидают чуть ли не цивилизационного поворота. Если мыслить в рамках Эрмитажа, каким будет этот музейный год? Надеюсь, в целом обойдется без глобальных сдвигов. Происходит некая эволюция. Рождается новый многополярный мир, с глобализмом покончено. Так называемая новая нормальность создается и в музейной экспериментальной работе. Наши действия — это шаг к тому, чтобы понять эту новую нормальность. Работа укладывается в три направления. Имперская история — и мы будем делать важную выставку о декабристах, с документами, которые ранее не экспонировались, мемориальными предметами участников восстания на Сенатской площади. Рядом будет выставка «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря», исследующая дуэли. Она будет отличаться от той, которая была в Пушкинском музее. Наш диалог культур — ожидается масштабная выставка, посвященная буддизму, к 110-летию петербургского дацана. Завершит год масштабный проект «Искусство портрета. Личность и эпоха». Ну и выставки шедевров, о которых я уже говорил: «Святой Себастьян», «Жертвоприношение Авраама» и другие отреставрированные произведения. Эрмитаж — большой корабль. Когда-то мы ходили в Черном море и в Балтийском. Потом вышли с круизом в Средиземное море. Теперь идем дорогой Северного морского пути. Пока успешно, а за нами пойдут остальные. Хочется иногда просто прийти и спрятаться в Эрмитаже от всех изменений. Входишь в музей, а там все как всегда, знаете, Леонардо и Рембрандт на месте, часы идут в каждом зале, отбивают время… Музей как надежное укрытие? Это одна из важных функций Эрмитажа. Он лечит, несет терапию. В нем можно отдохнуть, найти уединение, и это очень важно. Эрмитаж меняется, но при этом сохраняет свой дух и традиции. Музей, где свет идет из окон. Выставки в Эрмитаже в 2025 году: Французская манера. Гравюры и рисунки XV — начала XVII века. 19 марта — 13 июля 2025«Божественный Микеланьоло» и его современники. К 550-летию рождения мастера. 25 апреля — 24 августа 2025«Упакованные грезы». Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». 30 апреля — 7 сентября 2025«К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». 29 июня — 2 ноября 2025«Тайны и красота». Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа. 16 июля — 12 апреля 2026«Искусство портрета. Личность и эпоха». 9 декабря 2025 — 29 марта 2026Выставка к 200-летию восстания декабристов. 13 декабря 2025 — 5 апреля 2026 Более подробное расписание здесь. Фото: предоставлено пресс-службой музея -сообщает moskvichmag.ru #Когда #живешь #блокаде #надо #делать #выставкивызовы #гендиректор #Эрмитажа #Михаил #Пиотровский Читать, как было на самом деле:
223


превью странички эмитента заметки
статус
ПРивет, мужики! Болеть некогда!
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
Галерея пока пуста
Пока никто ничего не написал
110


превью странички эмитента заметки
статус
«Вечерняя Москва» — ежедневная городская столичная газета
- Галерея пользователя
- Гостевая пользователя
Пока никто ничего не написал